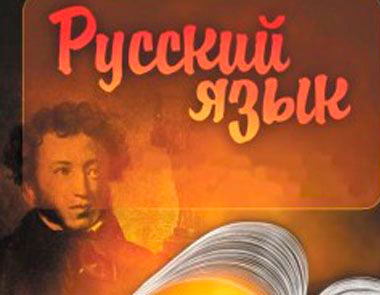Русский язык постсоветское пространство
Русский язык постсоветское пространство
В республиках СССР впервые государственный статус титульных языков был зафиксирован в конституциях в 1989 году.
В законах о языке, принятых союзными республиками в 1989 году (в Белоруссии и Туркмении – 1990 году), русскому языку придавались различные статусы, кроме государственного.
Русский язык как язык межнационального общения был зафиксирован в законах о языке Белоруссии, Молдавии, Украины, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана. Право на воспитание и получение образования на русском языке – в законах о языке Белоруссии, Молдавии, Казахстана, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана.
Ни в одном из государств Балтии русский язык не был зафиксирован как язык межнационального общения.
Абхазия
Статус русского языка закреплён в Конституции Абхазии (статья 6), где он «наряду с абхазским признаётся языком государственных и других учреждений».
Это положение содержится в законе «О государственном языке», принятом в 2007 году. Статья 8-я закона гласит, что «средством официального общения в высших органах государственной власти являются государственный язык и русский язык в соответствии с его статусом, определённым в Конституции Республики Абхазия».
Азербайджан
В действующей Конституции Азербайджана положение о статусе русского языка не регламентируется.
Статья 21 Конституции гласит, что Азербайджанская Республика обеспечивает свободное использование и развитие других языков, на которых говорит население.
Армения
В Конституции Армении статус русского языка не определён.
Закон о языке от 17 апреля 1993 года гарантирует «свободное использование языков национальных меньшинств».
Белоруссия
Статус русского языка закреплён в Конституции Республики Беларусь 1994 года (статья 17), где он признаётся государственным наряду с белорусским.
Статья 11 Союзного договора России и Белоруссии предусматривает, что официальными языками Союзного государства являются государственные языки государств-участников без ущерба для конституционного статуса их государственных языков, а в качестве рабочего языка в органах Союзного государства используется русский язык.
Грузия
В Конституции Грузии статус русского языка не определён.
Казахстан
Согласно статье 7 Конституции Республики Казахстан 1995 года, «в государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским языком официально употребляется русский язык».
Это положение закреплено в законе «О языках в Республике Казахстан» от 11 июля 1997 года.
Киргизия
Русский язык имеет статус официального языка в соответствии со статьёй 10 Конституции Киргизской Республики, принятой 27 июня 2010 года.
Статус русского языка закреплён в законе «Об официальном языке Киргизской Республики» от 29 мая 2000 года.
Латвия
Русскому языку присвоен статус иностранного языка согласно закону «О государственном языке» 1999 года.
Литва
Статус русского языка Конституцией Литовской Республики 1992 года не определён.
Согласно закону «О государственном языке» 1995 года, гарантируется право лиц, принадлежащих к национальным общинам, на развитие своего языка, культуры и обычаев.
Молдавия
Статус русского языка Конституцией Республики Молдова 1994 года не определён.
Согласно статье 13 Конституции, «государство признаёт и охраняет право на сохранение, развитие и функционирование русского языка и других языков, используемых на территории страны».
Согласно закону «О функционировании языков на территории Республики Молдова» 1989 года в редакции 2003 и 2011 годов, русский язык используется на территории республики наряду с молдавским языком как язык межнационального общения.
В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР), согласно статье 12 Конституции ПМР 1995 года, русский язык является официальным наряду с молдавским и украинским.
На территории Гагаузии (автономия в составе Молдавии) русский язык является официальным наряду с молдавским и гагаузским.
Таджикистан
Согласно Конституции Республики Таджикистан 1994 года, русский язык является языком межнационального общения (статья 2).
Этот же статус был прописан в законе «О языке» 1989 года. В 2009 году был принят новый закон «О государственном языке». В новом законе не упоминаются языки национальных меньшинств, в том числе русский.
Туркмения
В Конституции Туркменистана статус русского языка не определён.
До 1996 года в соответствии с законом «О языке» 1990 года русский язык имел статус языка межнационального общения.
Узбекистан
В Конституции Республики Узбекистан статус русского языка не определён.
В редакции закона «О государственном языке» до 1995 года русский язык имел статус языка межнационального общения. Из новой редакции Закона «О государственном языке«, принятой 21 декабря 1995 года, это положение было исключено.
Украина
Русский язык обладает статусом языка национального меньшинства согласно Конституции Украины 1996 года, которая гарантирует «свободное развитие, использование и защиту русского, других языков национальных меньшинств Украины» (статья 10).
10 августа 2012 года вступил в силу закон «Об основах государственной языковой политики», в соответствии с которым русский язык получает статус регионального там, где он является родным как минимум для 10% населения.
Эстония
Конституцией Эстонии 1992 года статус русского языка не определён.
Согласно закону «О языке» 1995 года русский язык имеет статус иностранного. В связи с тем, что Эстония входит в ЕС и признаёт все его основополагающие законодательные акты, в том числе и в области защиты прав национальных меньшинств, русский язык объявлен языком национального меньшинства.
Южная Осетия
Согласно Конституции Республики Южная Осетия 2001 года (статья 4), русский язык, наряду с осетинским, а в местах компактного проживания граждан Республики Южная Осетия грузинской национальности – грузинским, признаётся официальным языком органов государственной власти, государственного управления и местного самоуправления.
Русский язык в постсоветское время.
Эпоха перестройки в России в конце 80 — начале 90-х гг. XX в. и вызванные ею изменения в жизни общества не могли не отразиться на русском языке. Телевидение, газеты и другие средства массовой информации оказывают на нас большее влияние, чем прежде. В язык, например, вошли слова и словосочетания фазенда (‘дача’) из телесериала «Рабыня Изаура», сладкая парочка из телевизионной рекламы и др.
После падения «железного занавеса» с Запада вместе с новыми политическими понятиями и предметами быта хлынули новые (или полузабытые) слова: муниципалитет, брифинг, саммит, принтер, файл, картридж, чипсы, бургер, хот-дог. Ожили многие слова дореволюционной России (дума, губернатор). Стремление к яркости и выразительности речи в сочетании со специфической социальной ситуацией ввело в язык немало слов из уголовного жаргона: беспредел, крутой, разборка, наехать. Язык не может не изменяться, как не может застыть сама жизнь.
Ослабли жёсткие рамки официального публичного общения, на смену заранее подготовленным докладам пришли беседы, дискуссии, игры, интервью. Вместо строго официальных дикторов, читающих заранее подготовленный текст, мы видим и слышим ведущих с раскованной манерой держать себя и непринуждённой речью. Количество разговорных, жаргонных, просторечных элементов в публичной речи значительно увеличилось. Во многом эта раскрепощённость (а иногда и развязность) речи идёт от нежелания говорить на бюрократическом жаргоне советской эпохи. Отказ от казёнщины влияет на все уровни языка — от произношения и интонации до построения фразы. К сожалению, порой «с водой выплёскивают и ребёнка». Вместе с советскими штампами утрачивается годами выработанная культура речи, правильное произношение, точность словоупотребления. Но вместе с тем именно язык связывает между собой поколения, делает культуру народа единой. И было бы жаль, если нашим внукам пришлось бы читать Пушкина и Чехова в переводе.
И вновь, как уже не раз бывало, заговорили о «порче» русского языка. Но мы не стали говорить хуже, чем раньше, — просто изменившиеся условия заставляют нас больше говорить публично без предварительной подготовки,и мы ещё этому учимся.
Горбачевская перестройка изменила не столько сам русский язык, она изменила условия его употребления. Исчезли границы между разными формами языка и между сферами их употребления. В публичной речи, например, М.С. Горбачева или Б.Н. Ельцина причудливо сочетались элементы литературного языка, просторечия и все еще не умершего советского новояза.Языковая стихия обрушилась и захлестнула весь народ. Оказывается, что почти каждый может выступать публично, а некоторые еще и обязаны. Сегодня политические деятели различаются не только внешностью, взглядами, но и языком. «Языковые портреты» политиков стали обязательной частью их образа, инструментом в политических кампаниях. Публичная речь во многом стала отражением индивидуальности, как, вообще говоря, и должно быть.
Таким образом, социальных различий в речи теперь меньше, а индивидуальных больше. Та неграмотность, которая существовала всегда, стала отчасти публичной.
Если же обратиться к непубличной речи, то она изменилась несколько меньше, хотя также испытала различные влияния. В сегодняшней речи не юного и вполне интеллигентного человека мелькают самые разные лексические элементы: молодежный сленг, немного классической блатной фени, очень много фени новорусской, профессионализмы, жаргонизмы – короче говоря, на любой вкус.
Вот несколько правил современного культурного человека, сформулированных на современном языке: Не наезжай! Не грузи! Не гони! Не тормози! Понятно должно быть всем, хотя ни одно из слов не употреблено в своем литературном значении.
Стал ли русский язык более «криминальным»? Безусловно. Как и все общество в целом. Другой вопрос – почему это так заметно. Раньше на фене «ботал» тот, кому было положено «ботать». Ну, разве что интеллигент мог подпустить что-нибудь эдакое для красного словца. Но это словцо было «красным», то есть резко выделялось на общем фоне. Сейчас же эти слова на устах у всех: профессора, школьника, депутата, бандита.
Что-то подобное произошло и с русским матом. Вместе со всем запретным мат сейчас вырвался на волю. И ревнители русского языка утверждают, что материться стали чаще и больше. Конечно, статистических исследований никто не проводил, но это весьма маловероятно. Просто мат встречается теперь в тех местах, куда раньше ему путь был заказан. Например, в газетах и книгах. В телевизоре то прорывается, то как-то лицемерно и неприлично попискивает. И снова диалектика, как с неграмотностью: мат заметнее, потому что публичнее, и незаметнее, потому что подрастерял свою знаковую функцию, стал как бы менее непристойным.
Единственной, пожалуй, ощутимой потерей на этом пути развития речи стала почти всеобщая утрата языкового вкуса. Языковая игра, построенная на совмещении разных слоев языка (примеров в советский период множество: В.Высоцкий, А.Галич, Вен. Ерофеев и др.), или просто использование ярко выраженного социального стиля (например, М.Зощенко или А.Платонов) теперь едва ли возможны. Эти приемы стали нормой и перестали восприниматься как игра. Из новых речевых жанров, все-таки имеющих игровое начало, следует упомянуть стеб. Новизна его, впрочем, условна и скорее состоит в социализации, выходе на публичную трибуну.
Что же касается других претензий к современному языку, то и здесь не все так просто. Действительно, резко увеличился поток заимствований из английского языка. Влияние Америки очевидно, и не только на русский язык и не только на язык вообще. Эти изменения также связаны с уничтожением границ и перегородок, но только внешних. Наибольшее число заимствований приходится на новые области, где еще не сложилась система русских терминов или названий. Так происходит, например, в современной экономике или вычислительной технике. В ситуации отсутствия слова для нового понятия это слово может создаваться из старых средств, а может просто заимствоваться. Русский язык в целом пошел по второму пути. Если же говорить о конкретных словах, то, скажем, принтер победил печатающее устройство. В таких областях заимствования вполне целесообразны и во всяком случае никакой угрозы для языка не представляют.
Однако одной целесообразностью заимствования не объяснишь. Во многих областях, ориентированных на Америку, заимствования явно избыточны, поскольку в русском языке уже существуют соответствующие слова (иногда старые заимствования). Тем не менее новые заимствования более престижны и вытесняют русские слова из обращения. Так, бизнесмен борется с предпринимателем, модель – с манекенщицей, презентация – с представлением, имидж – с образом,и т.п. Появление такого рода заимствований иногда затрудняет общение. Объявление типа «Требуется сейлзменеджер» рассчитано исключительно на тех, кто понимает, а для остальных остается загадкой. Но издержки такого рода временны (только на период борьбы и становления новой терминологии) и тоже особой угрозы для языка в целом не несут. Едва ли мы становимся менее русскими, говоря бухгалтер (звучит-то как, если вдуматься!), а не счетовод. Количество заимствований в любом языке огромно, что самими носителями языка не всегда ощущается. Язык – необычайно стабильная система и способен «переварить» достаточно чужеродные явления, то есть приспособить их и сделать в той или иной степени своими. Степень этой адаптации важна, но и она не решает дела. Так, слова типа пальто (несклоняемое существительное) или поэт (отчетливое о в безударной позиции) переварены не до конца, однако русский язык не уничтожили.
Итак, бояться за русский язык не надо – справится. Самое парадоксальное, что стабильность и консервативность ему во многом обеспечат не слишком образованные люди, в первую очередь те, которые в университетах не обучались и иностранных языков не разумеют. И пока таких большинство, можно не беспокоиться. Другое дело, что ревнители «русского» заслуживают не насмешки, а уважения. Они являются своего рода противовесом для противоположных тенденций.
Особенности функционирования русского языка на постсоветском пространстве.
Русский язык по общему числу говорящих занимает место в первой десятке мировых языков, однако точно определить это место довольно трудно.
Численность людей, которые считают русский родным языком, превышает 200 миллионов человек, 130 миллионов из которых живут на территории России. В 300-350 миллионов оценивается число людей, владеющих русским языком в совершенстве и использующих его в качестве первого или второго языка в повседневном общении.
Всего же русским языком в мире в той или иной степени владеют более полумиллиарда человек, и по этому показателю русский занимает третье место в мире после китайского и английского.
Спорным на сегодняшний день остается также вопрос, падает в последние десятилетия влияние русского языка в мире или нет.
С одной стороны, языковая ситуация на постсоветском пространстве, где до распада СССР русский язык служил общепризнанным языком межнационального общения, весьма противоречива, и здесь можно выявить самые различные тенденции. А с другой стороны, русскоязычная диаспора в дальнем зарубежье за последние двадцать лет выросла многократно. Конечно, еще Высоцкий в семидесятые годы писал песни про «распространенье наших по планете», но в девяностые и двухтысячные это распространение стало гораздо более заметным. Но начинать рассмотрение ситуации с русским языком по состоянию на конец нулевых годов следует, конечно, с постсоветских государств. На постсоветском пространстве помимо России есть как минимум три страны, где судьба русского языка не вызывает никакого беспокойства. Это Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
В Белоруссии большинство населения говорит в быту и вообще в повседневном общении по-русски, и в городах у молодежи и многих людей среднего возраста в русской речи практически отсутствует даже характерный в прошлом белорусский акцент.
При этом Белоруссия – единственное постсоветское государство, где государственный статус русского языка подтвержден на референдуме подавляющим большинством голосов. Очевидно, что услуги переводчиков с русского на белорусский не будут востребованы еще долго, а возможно, и никогда – ведь практически вся официальная и деловая переписка в Белоруссии ведется на русском языке.
Языковая ситуация в Казахстане более сложна. В девяностые годы доля русских в населении Казахстана заметно сократилась, и казахи впервые с тридцатых годов прошлого века стали национальным большинством. По Конституции единственным государственным языком в Казахстане является казахский. Однако с середины девяностых существует закон, приравнивающий русский язык во всех официальных сферах к государственному. И на практике в большинстве государственных учреждений городского и регионального уровня, а также в столичных правительственных учреждениях русский язык используется чаще, чем казахский.
Причина проста и вполне прагматична. В этих учреждениях работают представители разных национальностей – казахи, русские, немцы, корейцы. При этом абсолютно все образованные казахи в совершенстве владеют русским языком, тогда как представители других национальностей знают казахский существенно хуже.
Похожая ситуация наблюдается и в Киргизии, где также существует закон, придающий русскому языку официальный статус, и в повседневном общении русскую речь в городах можно услышать чаще, чем киргизскую.
К этим трем странам примыкает Азербайджан, где статус русского языка официально никак не регулируется, однако в городах большинство жителей коренной национальности очень хорошо владеют русским, а многие предпочитают пользоваться им в общении. Этому опять-таки способствует многонациональный характер населения Азербайджана. Для национальных меньшинств со времен Советского Союза языком межнационального общения является русский.
Особняком в этом ряду стоит Украина. Здесь языковая ситуация своеобразна, а языковая политика приобретает порой крайне странные формы.
На западной Украине тоже не все просто. Ведь население Прикарпатской и Закарпатской Украины говорит на диалектах, которые в сопредельных странах (Словакии, Венгрии, Румынии, Югославии) считаются отдельным русинским языком.
И получается, что на украинском литературном языке и на говорах, близких к литературному, в Украинском государстве говорит меньшинство населения.
Впрочем, непревзойденными в стремлении к тому, чтобы для перевода с русского языка требовались услуги бюро переводов, остаются страны Балтии – особенно Латвия и Эстония. Правда, надо отметить, что языковая политика государства и отношение населения – это все-таки две большие разницы (как все еще говорят в Одессе). Слухи о том, что для общения местным населением российскому туристу нужен перевод с английского, сильно преувеличены.
Требования жизни сильнее, чем усилия государства, и в данном случае это проявляется как нельзя боле наглядно. Даже молодежь, родившаяся в Латвии и Эстонии уже в период независимости, владеет русским языком в достаточной мере, чтобы можно было понять друг друга. И случаи, когда латыш или эстонец отказывается говорить по-русски из принципа – редки. Настолько, что каждый из таких случаев оказывается предметом бурного обсуждения в прессе. По свидетельствам большинства россиян, побывавших в Латвии и Эстонии за последние годы, с приметами языковой дискриминации им сталкиваться не приходилось. Латыши и эстонцы весьма гостеприимны, а русский язык продолжает оставаться в этих странах языком межнационального общения. В Литве же языковая политика изначально была более мягкой.
В Грузии и Армении русский язык имеет статус языка национального меньшинства. В Армении доля русских в общей численности населения весьма незначительна, но заметная доля армян могут хорошо говорить по-русски. В Грузии ситуация примерно та же, причем русский язык более распространен в общении в тех местах, где велика доля иноязычного населения. Однако среди молодежи знание русского языка в Грузии весьма слабое. В Молдавии русский язык не имеет официального статуса (за исключением Приднестровья и Гагаузии), но де-факто может использоваться в официальной сфере.
А вот в дальнем зарубежье ситуация с русским языком противоположная. Русский, увы, относится к языкам, которые утрачиваются за два поколения.
Русские эмигранты первого поколения предпочитают говорить по-русски, и многие из них усваивают язык новой страны не в полной мере и разговаривают с сильным акцентом. Но уже их дети говорят на местном языке практически без акцента (девочку, знакомую автору с ее рождения и уехавшую с матерью в Швецию в возрасте 11 лет, к шестнадцати годам шведы принимали за местную, говорящую на деревенском диалекте) и предпочитают местный язык в общении. По-русски они говорят только с родителями, а в последнее время также в Интернете. И, кстати, Интернет играет исключительно важную роль для сохранения русского языка в диаспоре. Но с другой стороны, же в третьем-четвертом поколении интерес к корням у потомков эмигрантов возрождается, и они начинают специально учить язык предков. В том числе русский язык.
Таким образом, сегодня русский язык остается главным языком межнационального общения на всем постсоветском пространстве. На нем хорошо говорит старше поколение и неплохо объясняется младше во многих странах бывшего социалистического лагеря. Например, в бывшей ГДР школьников учили русскому, честно говоря, гораздо лучше, чем советских школьников – немецкому. И вряд ли можно говорить о том, что роль русского языка в мире за последние двадцать лет упала. Тому, что роль национальных языков за эти годы на постсоветском пространстве возросла, можно только радоваться. Но русский язык продолжает оставаться языком межнационального общения и одним из мировых языков, который совсем не напрасно является одним из официальных языков ООН.
Панова Л. Проблемы и перспективы развития русского языка.
«Мировое политическое и культурное пространство:
Казиев С. Ш., Бурдина Е. Н. Русский язык в современном Казахстане // Русский язык в странах СНГ и Балтии. С. 167 — 168.
Великий и могучий: какое место русский язык занимает на постсоветском пространстве
Эксперты Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина представили на онлайн-конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня» результаты нового исследования конкурентоспособности русского языка в мире и его устойчивости в странах постсоветского пространства.
Русский как глобальный язык
Стандартно положение языка в мире определяется, исходя из количества людей, но в современных реалиях этого недостаточно, поэтому эксперты Института Пушкина впервые предложили индекс положения русского языка в мире — универсальный показатель, дающий комплексное представление и целостное представление, — который был рассчитан, исходя из 6 параметров. Керри посоветовал американским студентам учить русский язык
По численности говорящих на языке
Русский язык занимает 8-е место в мире с показателем 258 млн человек, уступая английскому (1,268 млрд), китайскому (1,12 млрд), хинди (637 млн), испанскому (538 млн), французскому (277 млн), арабскому (274 млн) и бенгали (265 млн).
По количеству международных организаций, в которых язык имеет статус официального или рабочего
В 15 из 23 рассмотренных международных организаций русский признан официальным или рабочим (прежде всего ООН и глобальные отраслевые организации под её эгидой), что обеспечивает ему 4-е место. Впереди английский (23), французский (21) и испанский (19).
По численности публикаций в международных научных базах данных
За 2019 год в двух ведущих наукометрических базах данных Scopus и Web of Science насчитывается 37 559 публикаций на русском языке, за счёт чего он занимает 5-ю строчку, а лидируют английский (6 266 815), китайский (96 933), испанский (70 542) и немецкий (55 911).
По количеству СМИ, зарегистрированных и выходящих на тех или иных языках
У русского языка только 7-я позиция (31 820). Впереди английский (703 938), французский (419 745), испанский (116 822), немецкий (96 183), португальский (51 858) и индонезийский (44 025).
По числу пользователей в интернете
Русский для общения в глобальной сети в 2019 году выбрали 2,5% от общего количества пользователей — это 10-е место. Чаще использовали английский (25,9%), китайский (19,4%), испанский (7,9%), арабский (5.9%), индонезийский (4,3%), португальский и хинди (по 3,7%), французский (3,3%), японский (2,6%).
По количеству сайтов
По этому показателю русский язык занял второе место (8,6%), уступая лишь английскому (60,3%) и обойдя испанский (4%), французский (2,6%) и немецкий (2,5%). Верховная Рада хочет запретить язык, на котором говорят многие мировые лидеры
Проанализировав эти 6 критериев по отдельности, эксперты сформировали комплексный подход и определили индекс глобальной конкурентоспособности языков. В итоге среди 12 мировых языкой русский занял 5-е место, пропустив вперёд английский, испанский, французский и китайский.
Русский на постсоветском пространстве
Отдельная часть исследования посвящена положению русского языка на постсоветском пространстве. В центре внимания было 3 аспекта.
Русский язык в государственно-общественной сфере (статус русского языка в Конституции/основном законе страны, наличие русскоязычных сайтов/ версий официальных сайтов высших органов государственной власти, наличие русскоязычной версии портала госуслуг)
1. Белоруссия, Казахстан и Киргизия
2. Южная Осетия, Узбекистан, Абхазия, Молдавия, Эстония
3. Латвия
4. Таджикистан, Азербайджан, Армения, Туркменистан
5. Украина
Грузия и Эстония получили по этому параметру комплексный балл 0 (то есть по всем 3 аспектам ответ отрицательный)
Русский язык в сфере образования (доля детского населения страны, изучающих русский язык)
Русский язык в научной коммуникации (доля публикаций на русском языке)
1. Белоруссия
2. Киргизия
3. Азербайджан
4. Таджикистан
5. Казахстан
6. Молдавия
7. Украина
8. Узбекистан
9. Армения
10. Латвия
«Что нас удивило по тематике научных работ. Нам казалось, что русский язык используется исследователями в странах постсоветского пространства для публикаций в области русистики, например, гуманитарных наук, но оказалось, что лидирующая отрасль по публикациям — это медицина, на втором месте — технические науки, в том числе информационные технологии. Несмотря на то, что в образовательной сфере статус русского языка как языка нашего общего пространства уже где-то под вопросом, то в области науки русский язык сегодня абсолютно точно является нашим объединяющим языком», — подчеркнул проректор Государственного института русского языка им. А.С.Пушкина по науке Михаил Осадчий.
На основе этих 3 параметров эксперты составили индекс устойчивости русского языка в постсоветских странах:
1. Белоруссия (победила с отрывом почти в 2 раза от «серебряного призёра»)
2. Киргизия
3. Казахстан
4. Молдавия
5. Таджикистан
6. Южная Осетия
7. Азербайджан
8. Украина и Абхазия
9. Латвия и Узбекистан
10. Эстония
«Белоруссия — это та страна, где русский язык сегодня чувствует себя наиболее устойчиво и уверенно», — отметила ректор Государственного института русского языка им. А.С.Пушкина Маргарита Русецкая.
Ситуация в отдельных странах
В Киргизии сложилась парадоксальная картина: в ВУЗах на русском языке учится 70% студентов, а в школах — 30% детей.
«Научно-образовательный пласт киргизского языка не был сформирован. То есть этнические киргизы, владея родным языком на уровне обиходно-бытового общения, испытывали и испытывают существенные затруднения в общественно-деловой коммуникации как в устной, так и в письменной форме, а сфера профессиональной деятельности требует от носителей высокого уровня владения специальных знаний. Нынешняя система профессионального образования Киргизии ведёт своё начало с советского периода, когда основным языком обучения был русский», — объяснила руководитель Центра исследований языковой политики и международного образования Государственного института русского языка им. А.С.Пушкина Светлана Камышева. Конституционное совещание Киргизии приняло решение по русскому языку
Однако, как она предупреждает, такие устойчивые позиции русского языка в высшем образовании не дают никаких оснований для эйфории: русский язык, несмотря на официальный статус, неумолимо теряет свои позиции, потому что исчезает русскоязычная среда, снижается мотивация к его изучению, а единственным сдерживающим фактором в этой негативной динамики остаётся функционирование системы высшего образования на русском языке.
«Бишкек — это островок русского языка, и совершенно иная ситуация в регионах. Например, в Ошской области родители все хотят учить детей в русской школе, но преподавателей не хватает, за одной партой сидят по 3 ребёнка», — отметила эксперт.
В Казахстане ситуация с языковым образованием непростая: школ с образованием на казахском языке в 3 раза больше, чем с русским. За годы независимости картина языкового обучения в вузах тоже изменилась. Президент республики дал чёткую установку, что специалисты должны владеть тремя языками: казахским, русским и английским — и это сейчас выполняется. Борьба с русскими. Как Казахстан идет по пути Украины
«В Казахстане среди учителей русского языка невероятная тяга к учёбе. 2 года назад мы проводили повышение квалификации в столице Казахстана, была квота на 100 человек, а записалось 195. Они писали записки: я учительница русского языка с 35-летним стажем, неужели я не имею права присутствовать на этом повышении квалификации? Мы решили, пусть приедут все желающие. И Центр Кирилла и Мефодия просто ломился, была толпа, как это востребовано. Но по возрастному составу мы видим, что молодёжи не так много», — рассказала Камышева.
По словам эксперта, в Узбекистане социо-лингвистическая ситуация ещё не описана и непонятна, в том числе местным лингвистам. Ситуация в Ташкенте и Самаркандской, Бухарской, Ферганской областях очень отличаются: если в столице действительно присутствует сбалансированный билингвизм, то этого не наблюдается в далёких кишлаках. Уходит русский, не возвращается узбекский: Грозин рассказал о языковых проблемах Узбекистана
«В Самаркандском университете преподаватели говорили, что им не нужен русский как иностранный, а 2 года спустя они обратились в Институт Пушкина и массово прошли стажировку по специальности «русский как иностранный». Таким образом, в Узбекистане нужно преподавать как русский билингвам, так и русский как иностранный. Присходит осознание нехватки преподавателей русского языка, а без этого невозможно Узбекистану дальше жить. Радует Узбекистан, что этот процесс идёт», — сказала Камышева.
Власти Украины на протяжении длительного времени пытаются искоренить русский язык из всех сфер жизни, однако конечной цели достичь так и не смогли. Красноречиво об этом в частности свидетельствуют опубликованные на днях сведения о музыкальных предпочтениях населения страны: в 10-ку самых популярных клипов 2020 года вошли ролики 7 российских исполнителей и 2 украинских, но песни все русскоязычные. Скачко пояснил, почему русский язык не сделали на Украине вторым государственным
Отвечая на вопрос корреспондента издания Украина.ру о том, могут ли власти и общественные организации РФ каким-либо образом укрепить позиции русского языка на Украине, Михаил Осадчий заявил: «Украина — это суверенное государство, которое самостоятельно определяет свою образовательную политику: как учить, каким языкам. Прямого влияния здесь быть не может, агрессивного влияния, но есть такое понятие как адекватность органов власти чаяниям, желаниям и потребностям собственных граждан. В некоторых странах есть разрыв между позицией государства по отношению к какому-то языку и тем, как люди фактически выстраивают взаимоотношения с этим языком. В случае с Украиной это очень ярко показано: реальный спрос на русский язык в этом государстве огромный, украинцы очень часто пользуются русским языком для решения разных задач — и бытовых, и научных, и культурных, и образовательных — для многих он родной, они чаще пользуются русским при поиске информации в интернете, всё это показывает, что русский язык реально нужен людям, но официальная позиция по отношению к этому языку украинской власти несколько иная, мы понимаем какая. Здесь в большей степени вопрос не к России, это вопрос внутреннего консенсуса в этой стране».
Он также отметил, что Россия переживает судьбу любой страны большого языка, которая заключается вот в чём: с какого-то момента она утрачивает монополию на этот язык, как утрачена монополия на английский Великобританией и Соединёнными Штатами, сегодня он принадлежит не только этим странам, он принадлежит всему мировому сообществу. То же самое происходит и с русским языком: это мировое достояние, а не монополия России, и с одной стороны, это в какой-то степени снимает с нас ответственность, как выстраиваются взаимоотношения между разными частями общества в иностранном обществе по отношению к русскому, а с другой — показывает статус русского языка в мире.