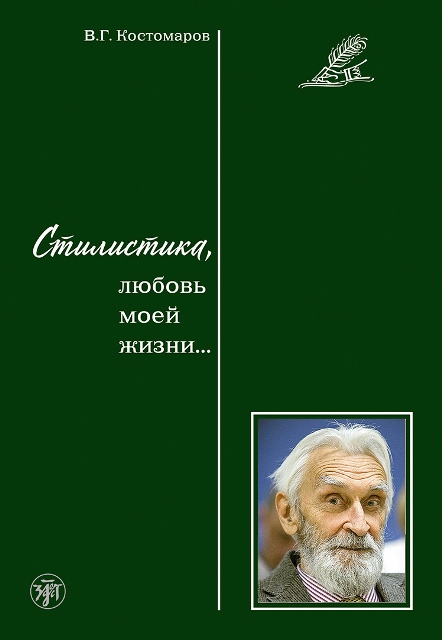Статья костомарова о русском языке
Текст ЕГЭ. В.Г. Костомаров. Темы: Русский язык
(1)Все знают, что часовая стрелка на циферблате движется, но увидеть, как она движется, нельзя. (2)То же происходит и с языком. (3)Он изменяется. (4)Но мы не чувствуем, как это происходит. (5)Сейчас в нашей истории наступил такой момент, когда мы видим, как меняется русский язык. (6)И это не может не пугать. (7)Мы так хотим во что бы то ни стало отойти от предшествующей эпохи нашей жизни, построить новые общественные отношения, новую экономику, что нам даже хотелось бы иметь новый язык. (8)Когда-то говорили «отмежеваться», теперь – «дистанцироваться», нам надоело выражение «сойти с ума» – мы говорим «крыша поехала». (9)Или разонравилось слово «встреча», стали говорить «тусовка».(10)Русский язык, по словам А.С. Пушкина, «переимчив и общежителен», он легко принимает иностранные слова, если они нужны. (11)И в этом нет ничего страшного, когда всё делается в меру. (12)А мера утеряна. (13)В нашей речи возникают «сэндвичи», «ленчи», «дисплеи». (14)Обычно меняются 20-30 слов в год, а у нас сейчас появляются, может быть, 20 слов в неделю. (15)Кроме того, немаловажно, из каких источников появляются новые слова языка. (16)Сейчас, например, идёт поток слов из довольно сомнительных источников, в частности уголовного жаргона: «разборка», «халява». (17)Многие печатные органы используют «непечатные» слова, которые, кстати, так и называются, потому что их печатать не надо. (18)В Думе несколько лет обсуждался «3акон о русском языке». (19)Закон, конечно же, нужен. (20)Но если серьёзно говорить о законе, то должен быть и механизм наказания за его нарушение. (21)Однако представляется несерьёзным предложение создать филологическую милицию, учредить штрафы за ошибки в русском языке. (22)Что ни говори, делает язык народ, а его трудно заставить подчиняться административным нормам в отношении языка. (23)Были уже такие тщетные попытки. (24)В своё время, в XIX, да и в XX веке, образцовый язык давала художественная литература. (25)Если человек не знал, как правильно говорить, то он открывал Тургенева и там находил ответ. (26)Сейчас, конечно, не художественная литература формирует наш языковой вкус. (27)Тон задают теперь в первую очередь телевидение и радио. (28)Это касается и произношения звуков, и ударения, и интонации. (29)А современным дикторам нравится американская интонация. (30)И молодёжь начинает им подражать. (31)Бывает, ведущий бог знает что и как говорит, а людям нравится. (32)Это относится, безусловно, не ко всем передачам, каналам, дикторам, но многие из них подвержены моде.(33)Мы сейчас недовольны языком, но здесь очень важно разобраться – язык в этом виноват или что-то другое. (34)Ведь язык подчиняется людям, которые им пользуются. (35)Он приспосабливается к потребностям общества. (36)Если в нашем обществе сегодня существует потребность думать о будущем, о крепкой семье, о счастье детей – то язык пойдёт в эту сторону, будет давать нам средства для этого. (37)Если у нас главное – как, не работая, заработать миллион, то язык повернётся сюда. (38)За что его ругать? (39)Он отражает состояние общества. (40)Так что не язык надо сейчас исправлять.
Статья костомарова о русском языке
Известный российский лингвист, инициатор создания и первый директор Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина Виталий Григорьевич Костомаров недавно отметил 90-летие, но не оставляет свои научные исследования. Учёный рассказал «Русскому миру», почему русский продолжает оставаться одним из наиболее успешных языков мира и как советские вожди способствовали тому, что мы продолжаем говорить на языке, созданном Пушкиным и Карамзиным два века назад.
– Виталий Григорьевич, вы – известный лингвист, создавший особое научное направление – лингвострановедение, автор 16 книг и около 1000 статей, посвящённых связи языка и культуры. Чем вы занимаетесь сейчас?
– До сих пор работаю – теперь уже в качестве президента – в Институте Русского языка, который создал в 1973 году. В своей основе цель этого института – помогать продвижению русского языка и образованию на русском языке во всём мире. Сейчас эта некогда главная задача приобрела другой вид, потому что колоссальные успехи, которые были достигнуты Советским Союзом, с падением Берлинской стены сильно уменьшились. При этом русский язык в сегодняшнем мире остаётся важным средством мирового общения.
Когда я был командирован в Париж (где изучал на примере передового французского опыта, как быстро и эффективно можно организовать процесс обучения русскому языку иностранцев), меня окрылили слова генерала Шарля де Голля, стремившегося поднять престиж французского языка, о том, что восстановить престиж этого языка как лучшего можно, напомнив миру, что у Франции «великая литература, великие музыка, театр и балет». И я сразу же подумал: «А что, разве у нас мало таких вещей? У нас прекрасная литература, балет не хуже французского, а музыка – лучше!». Это существенно помогло мне в поиске ключа для мотивирования студентов. Секрет прост: для того, чтобы полюбить русский язык, надо полюбить Россию.
Сейчас я беседую с вами как лингвист. Став педагогом РКИ (русского языка как иностранного – ред.), я не перестал быть лингвистом, которому русский язык, конечно же, очень интересен во всех своих проявлениях. О различных аспектах этого интереса, в частности, рассказывает недавно вышедшая в издательстве «Златоуст» моя книга «Стилистика, любовь моей жизни…», которая объединяет рассказы о моём научном поиске с биографическим очерком.
Сегодня в первую очередь меня волнуют вещи, не связанные с преподаванием русского языка как языка межнационального общения. Мне важнее судьба русского языка в целом. Понимание, как он развивается в течение длительного времени без всяких революций. Ведь революции в русском языке не было, так как на рубеже XVIII и XIX веков произошла смена синхронии. С тех пор мы с вами живём в одном языке, который называется литературным языком. Замечу, что Ленин называл его настоящим русским языком, мне же кажется, что лучше его называть «образованным языком». По двум значениям слова «образовать» (первое – обработать, сделать, создать, второе – воспитать, т. е. сделать человека образованным, знающим).
В книге «Стилистика, любовь моей жизни…» (вышла в издательстве «Златоуст» в 2019 г.) учёный рассказывает о своей жизни и работе, вспоминает своих коллег и размышляет о лингвистике, об уже решённых и остросовременных научных задачах. Фото: ozon.ru
– То есть мы живём в период развития русского языка, который начался во времена Пушкина? Насколько долго он продлится, по вашему мнению?
– Синхрония – период, когда язык идентичен самому себе. Его смена происходит по мере накопления новшеств и частых изменений языка, осмысляемых как показатели побеждающего нового и уходящих поколений в переломные периоды. В новом своём виде он, подобно повзрослевшим детям и внукам, похож на родителей и предков, в тоже время отличаясь от них: являясь естественным для молодёжи, доживающим же кажется испорченным, смешным, а то и малопонятным. Люди текущей синхронии «от А. С. Пушкина до наших дней», как правило, понимают старорусский язык предыдущей синхронии, закончившейся в конце XVIII века, но их уже не восхищают стихи Василия Тредиаковского.
Язык весьма послушен, чувствителен к событиям, происходящим в жизни, мыслях, делах своих носителей, и регистрирует, по-своему отражает их. В нём нередко откладывается и хранится как балласт преходящее, даже случайное и ненужное. Какие-то мелочи, повороты мысли и судьбы, притязания, условия быта породили упорно соблюдаемые обычаи (например, «выпить на посошок» или «посидеть на дорожку»).
Сейчас есть знаки того, что русскому языку следует перейти в новую синхронию.
– Как этот переход может произойти? Следует ли нам, носителям русского языка, для этого что-то делать?
– Сложный вопрос. Язык – это средство общения людей, и именно народ является средством развития языка. Некоторые, к примеру поэты Серебряного века, стремились к созданию нового русского языка. К примеру, Хлебников. В то же время у него так и не получилось его изобрести. Разве что отдельные слова. А у Пушкина с Карамзиным получилось. Правда, они работали уже на подготовленной почве.
– Каков механизм такого глобального изменения языка, о котором вы говорите?
– Употребляя язык в общении, люди умело или не очень умело, обдуманно или бессознательно, порой по ошибке приспособляют его к своим потребностям и под обсуждаемый контент – как и любой другой инструмент затачивают, меняя ухватку и прилагаемое усилие. Порой какое-то точечное нововведение приходится по вкусу и принимается другими. В периоды потрясений, раскола и смены основ общества такие изменения достигают критической массы, и язык переходит – не обязательно революционным взрывом, а чаще эволюционно – в качественно новую синхронию существования.
Находятся талантливые люди – катализаторы этого процесса. Такого плана, как, к примеру, теоретик Карамзин. Или такой поэт, как Пушкин. Меня смущает время протяжённости нынешней синхронии: синхрония современного русского тянется с эпохи Пушкина до наших дней. Каким образом это происходит? Почему нарушены нормальные границы синхронии? Почему наш язык как будто не заметил революций начала ХХ века, ни свержения царя, ни Русско-японской, Гражданской, ни Первой мировой войны, ни того, что возник и распался Советский Союз?
– Как же не заметил? А появление многочисленных неологизмов в первые послереволюционные годы?
– Они каждый день появляются. Но они не «делают» язык. В этом смысле я не согласен с теми, кто утверждает, что английский язык богаче и лучше русского, так как в нём больше слов и значений. Во-первых, это неправда, а во-вторых большее количество слов никак не улучшает язык.
Посудите сами: в течение длительного времени в русском языке не изменились ни склонения, ни родовые системы, ни спряжения. При этом опасность безвозвратной гибели рафинированного языка культуры, образованности, науки, государственности, вежливого быта была реально велика.
У нас повелось называть его литературным, в честь писателей классиков, но, не умаляя их роли, было бы справедливо вспомнить учёных, начиная с Ломоносова, и отдать должное всем, кто совершенствовал, обрабатывал искусственно и искусно общенародную основу. Ещё раз подчеркну: лучше именовать его «образованным». Во всяком случае, мы сегодня грамотным называем вовсе не того, кто умеет читать и расписываться, и не искусного каллиграфа, а того, кто владеет «настоящим русским языком», как называл его Ленин. В англоязычной традиции такой на все случаи пригодный элитарный язык называют стандартным.
От революции в языке пропагандой и делами уберегли нас сами революционеры – «ленинская гвардия» вождей. Сами с университетским образованием, почуяв угрозы утраты великой культуры, литературы и языка, своего языка, который завоевал мировое признание за отзывчивое благородство и человеколюбие, они создали атмосферу верности традициям и осуществили практические действия, гениально проведя кампанию ликбеза (ликвидации безграмотности), а затем введя в обязательный школе единый всеобуч, сделав СССР страной сплошной грамотности.
– Вы упомянули Ленина. Какова его роль в этом процессе?
– Сам Владимир Ильич, игнорируя исторически сложившуюся роль русского народа и его языка как объединителя многоразличной и многонациональной России, из малопонятной деликатности и вопреки мнению большинства соратников отрицал нужность сохранения ему статуса государственного (якобы это означало «загонять в рай палкой»). Он верил, что народы страны (а при торжестве коммунизма и во всём мире) сами определят тот язык, который выгодно знать в интересах экономического оборота.
Впрочем, известно, что Ленина также волновали как социолингвистические, так и собственно лингвистические проблемы. Так, существует его записка Луначарскому (советский нарком просвещения – ред.) от 18 января 1920 года, в которой он писал: «Не пора ли создать словарь настоящего русского языка, скажем, словарь слов, употребляемых теперь и классиками от Пушкина до Горького? Что, если посадить за сие 30 учёных, дав им красноармейский паёк?». Пожелание было выполнено позже группой учёных-языковедов под руководством Дмитрия Ушакова, тогда же и данная им датировка «до Горького» приобрела более разумный вид «до наших дней». Ленин также возражал против дикого неупорядоченного количества сокращённых и нелепых по смыслу слов.
– Получается, мы продолжаем говорить «на языке Пушкина» благодаря советским вождям? Или всё же не только им?
– За все советские годы были созданы многочисленные словари, в том числе академический 17-томник, но лишь три научные грамматики. Для сравнения: за постсоветские 15 – 20 лет ни одной научной грамматики, но не менее десятка больших словарей! Явное доказательство нашей верности одной и той же синхронии языка «от Пушкина…».
Но всё же главными причинами неизменного продления синхронии языка от «Пушкина до наших дней» были политико-социальные. Против «канцелярита» и других болезней, которыми пытались заразить наш язык, боролся Корней Чуковский и другие ревнители сохранности его чистоты. Неустойчиво колеблясь, традиция «единой школы всеобуча» сохраняется и сегодня в средних школах, лицеях, гимназиях, суворовских и иных специальных учебных заведениях, даже семейном обучении с помощью «стандартов обучения» и требований ЕГЭ. Длительной устойчивостью всё ещё текущей синхронии русский язык, несомненно, обязан тому, что вырос на классической литературе, в величии и глубине, всечеловеческой отзывчивости которой никто не посмел усомниться, а многие всячески старались ей споспешествовать.
– Каковы, на ваш взгляд, ближайшие перспективы развития русского языка?
– Объединяя русский и иные этносы в Российской империи, Советском Союзе и нынешней Российской Федерации, русский образованный язык пока неизменно остаётся сам собой, причём в одной синхронии.
Филолог Виталий Костомаров: Норма языка скоро погибнет
Виталий Григорьевич Костомаров – доктор филологических наук, профессор, академик Российской академии образования. Он стоял у истоков методики преподавания русского языка как иностранного (РКИ) как отдельной дисциплины, одним из первых заявил о лингвострановедении (лингвокультурологии) как особой научной дисциплине. Основатель, первый ректор и ныне – президент Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, автор ряда публикаций о современном русском языке.
Наблюдательный и соблазнительный
– Когда вы начали преподавать русский язык иностранным студентам, у вас уже было какое-то понимание того, что нужна отдельная методика, отдельная наука, или это приходило постепенно? Сейчас существуют и русский язык как иностранный, и методика преподавания РКИ.
– Нет, наверное, приходило все-таки. Меня тянуло в языкознание, в язык. Я решил для себя, что язык я буду изучать как практик, как переводчик, в какой-то мере преподаватель.
Моя первая серьезная лингвистическая работа – о словах на -тельный: соблазнительный, наблюдательный и наблюдающий, и наблюдательный, где находится наблюдатель. У нас есть наблюдательная вышка, куда надо лезть, то есть место, где сидит наблюдатель. Это так же, как и соблазнитель. Соблазнительный – свойственный соблазнителю, характерный для соблазнителя, поэтому не было понятно, что такое соблазнительный взгляд или соблазнительный вид, то есть соблазняющий. Это была, может быть, первая работа, которая заставила меня лезть к Срезневскому [1] в «Словарь древнего русского языка» посмотреть, когда этот самый суффикс -тель- образовался. Это тоже не русский суффикс, а скорее старославянский.
Я был распределен в Высшую партийную школу из иняза как переводчик. Я закончил переводческий факультет с английским языком. Тогда в партшколе, как и в других местах, стали принимать много иностранных студентов: из ГДР, в основном, были немцы, коммунисты из других стран, из Америки, из Англии, из Франции.
Они приезжали, особенно из капиталистических стран, достаточно скрытно, чего я не мог понять – надо гордиться, что ты коммунист, а они скрывали это. Я переводил лекции, которые читали для них на русском языке, на английский, потому что английский язык, конечно, и немцы знали.
Кафедра иностранных языков была маленькая, потом она слилась с кафедрой русского языка. Я в итоге стал руководить ею, и было там больше 100 преподавателей.
– Когда вы начали преподавать, начало зарождаться ваше знаменитое лингвострановедение. Как вы к этому пришли?
– Из партийной школы я ушел, потому что Виноградов меня позвал в сектор культуры речи. Я уже как-то прибился к нему, в конце 50-х уже был точно в этом секторе, ходил туда к Сергею Ивановичу Ожегову. Он и образовал этот сектор культуры речи.
Я подал заявление и отчислен был из преподавателей, переводчиков в связи с переходом в академический институт языкознания. Там я, наверное, думал остаться на веки вечные.
Но вызвали меня в ЦК. Там отказываться было не принято. Сказали: «Мы будем создавать научно-методический центр в составе Московского университета, с перспективой дальнейшего превращения его в большое учреждение. Тебе предлагается пойти на эту работу».
Итак, проработав в академическом институте формально до защиты кандидатской диссертации, я перебрался в этот научно-методический центр, который в 1973 году стал Институтом русского языка им. Пушкина. А лингвистику и стилистику все-таки не бросил.
Стиль – более заезженного слова невозможно придумать
– Почему у вас такая любовь к стилистике?
– Я думаю, что язык есть «вещь в себе», похож на человека, инструмент, так же, как человек. Я «вещь в себе» – меня можно ощупать, у меня есть руки, ноги, сердце, голова и так далее.
Но меня можно использовать как инструмент, скажем, для обучения молодежи, а можно сделать шофером. И язык также. Но дело все в том, что вещь в себе изучать очень просто. Можно взять меня разрезать, особенно когда я помру. Изучить, из чего я был сделан.
И язык – можно по текстам разложить на грамматику, морфологию, стилистику, на фонетику, на синтаксис и так далее. Придумать соответствующие названия: «имя существительное», «глагол», «предлог», «категория состояния», «сложносочиненный», «причастный оборот», «примыкание», все что угодно. «Фонема», «фоны», «омофоны».
А вот изучить язык как инструмент очень трудно. Меня даже легче. Я могу написать профессиограмму учителя. Или можно описать действие землекопа. А вот описать язык как научный, или как язык отвратительной ругани и склоки, доноса очень трудно.
Ясно, что эти категории, которыми мы описывали «вещь в себе», не годны. А как их описать? Никто не знает.
Риторика? Не получается. Это задача стилистики. Как это сделать, не знаю. А мне очень хочется знать, как можно описать язык в его разных употреблениях, причем загадочно. Ну, человек еще ладно, а как язык? Он один язык. Но и человек один во всех этих функциях.
И вдруг у нас схватились – стиль. Более заезженного слова невозможно придумать! Всё стиль: брасс – это стиль плавания; готика – это стиль архитектуры; романтизм – это стиль поэзии. А в поэзии еще есть стили: стиль оды, стиль столбцов, стиль сонета. Надо выбросить слово «стиль», потому что оно мешает определить те категории, которые нужны для описания языка в действии, языка как средства, языка как инструмента. Вот что меня привязало к стилистике.
– Зацепило! Отсюда выстраивается сразу мостик к вашему взгляду на норму в языке.
– Безусловно. Нормы придумали. Что такое правильность – правильность вообще и правильность языка? Понятно, что правильность языка будет отражать понимание правильности у данного общества в данную эпоху. Мы с вами еще не вышли из фабрично-заводской эпохи. Мы ушли из феодального общества, перешли в общество, можно сказать, капиталистическое, социалистическое – вопрос терминов, вопрос идеологический.
С чем связана эта эпоха? Во-первых, грамотные люди должны быть, чтобы они могли прочитать хотя бы инструкции и расписаться в ведомости на получение зарплаты, но еще важнее временное измерение чего-то – труда, времени, продукции, того, чего не было в феодальном обществе.
Корова хочет есть, ее надо накормить, поэтому крестьянин должен встать и пойти косить, без этого корова не будет давать молоко. У крестьянина нет таких понятий – пойти в отпуск. Какой там отпуск? Слово «выходной день» и «рабочий день» – это результат развития новой структуры. Норма выработки, норма оплаты труда, норма отдыха.
В конце XIX века наши лингвисты спохватились и сказали: «Нормы языка». Мы теперь определяем правильность языка путем нормы. То же самое и в других странах, правда, там предпочли говорить о стандарте. Есть стандарт времени. Сейчас тоже вспомнили. Посмотрите в словарь, что такое стандарт? Норма. Посмотрите, как словарь объясняет слово «норма»? Написано – стандарт. Словари вообще очень полезно читать.
– Норма скрепляет язык?
– Но пиар скрепляет больше. Скрепляет выгоднее.
– Можно ли пиарить язык?
– Можно. А что мы делаем сейчас с русским языком? Пиар это страшная вещь. В моем понимании это высшая ступень рекламы. PR – public relations, это людские взаимоотношения или взаимоотношения чего-то с людьми. В нем своя правильность.
Какая правильность в моем отношении с другими людьми? Достаточно искаженная, но это цель, достижение моей цели. Если я торговец – заставить тебя купить мой товар, либо доказав, что он тебе необходим, либо каким-то другим способом. Тут я остановлюсь.
– Нормой языка становится максимальная убедительность?
– Она становится помехой. Чтобы достичь цели, я, скорее, обращусь к антинорме – что и происходит. Посмотрите на нашу рекламу. На чем она основана? Достижение успеха (человек не задумывается, каким способом это делается) может становиться правильностью жизни общества.
Почему? Прежде всего, потому что эта постановка вопроса дает деньги. Дает существование, дает власть. Посмотрите, почитайте наши газеты сегодняшние – там что, забота о норме, о красоте пушкинской строфы?
Я думаю, что будет правильность другая. Какая? Не знаю. Надеюсь, что не доживу до торжества пиара как эталона правильности.
– До торжества антинормы?
– Норма погибнет. Максимум, что останется – это образец. Образец нужен, потому что иначе в языке погибнет качество взаимопонимания. Всегда для какого-то употребления людям хотелось взять чужой язык и оградить себя и свою группу от давления темной массы.
Русское дворянство решило: изучая французский язык, мы отгородим себя, белую кость, от черни. Как вы будете жить рядом с чернью? Очень просто, мы не будем их учить французскому языку, а сами-то мы русские, мы сможем с ними объясниться по-русски. А русский язык не нужен нам как язык науки, потому что не нужно, чтобы ученые были.
Возьмите Ломоносова, он стал ученым? Стал. Великим стал? Стал. На каком основании? Потому что его дьячок там, в его таежном крае, обучил латыни. А человек он был очень способный, его отправили поучиться в Германию. Вообще, это потрясающий человек! Он говорит: всех не обучить немецкому и латыни, значит, надо сделать русский язык таким, чтобы науку можно было на нем писать – вот в чем гениальность и патриотизм этого человека.
Скажем, Толстому эта правильность фабрично-заводская была понятна? Нет. Страдал человек безумно от этого, потому что для него правильность была – правильность патриархального крестьянства, то есть правильность предыдущей экономической формации, которую марксисты называют феодальной.
Что знает Ваня и не знает Джон?
– Вы же как-то говорили, что хотели институту дать имя именно Толстого, а не Пушкина.
– Пушкин для наших идеологов был понятнее – создал язык, они считали, что он революционер, встал на сторону декабристов. Во всяком случае по легендам. Когда Александр спросил его: « Что бы ты делал, если бы не был в ссылке в это время», он ответил: «Я был бы на Сенатской площади». Но я не уверен, что Пушкин был бы на Сенатской площади. Это уже мои домыслы.
– Можете рассказать, с чего Институт Пушкина начался и какой он сейчас? Был сектор или отдел в университете?
– Нет, это был научно-методический центр, который был образован специально, для того чтобы обосновать методику преподавания русского языка взрослым иностранцам.
Мы принадлежим к странам, которым не безразлична судьба нашего основного языка за пределами страны. Таких стран, в общем, немного, хотя всем интересно, чтобы их язык изучали где-то. Но таких стран, которые хотят экспортировать, которых беспокоит судьба русского языка за пределами страны, их немного – это Англия и Соединенные Штаты, это Германия, немножко меньше, но есть возможность. Франция. Безусловно, Китай.
– Россия экспортирует? Или пытается экспортировать?
– Экспортировала! Да. Экспортировал – Советский Союз, да. Но мы сейчас откатились знаете куда? Советский Союз добился того, что вся Европа считала русский язык первым и обязательным иностранным языком, кроме, может быть, ФРГ, Франции и Англии.
В Англии, во всяком случае в 1960-е годы после полета спутника, был такой лорд, он говорил, что необходимо ввести обязательное изучение русского языка во всех школах Великобритании. Американский Конгресс после этих космических достижений работал год, выясняя все, как у них это положено. Этот сенатский доклад был озаглавлен «What Ivan Knows that Johnny Doesn’t» [2] – «Что знает Ваня и не знает Джон?».
Во всяком случае, во всех университетах Соединенных Штатов, во всех университетах, несмотря на сегодняшнюю «охоту на ведьм», преподается русский язык.
То, что мы называем чтением, вернее назвать дешифровкой
– Если бы вы рекомендовали любому иностранцу изучать русский язык, с чего бы вы предложили ему начать?
– Конечно, с литературы.
– Все равно с литературы. Не с пиара?
– Видите ли, пиар изучать нельзя, его надо воспринять, оценить или отойти и сказать, что для меня этой правильности просто не существует, потому что я воспитан в другой стране, в другой идеологии.
– Если вы бы рекомендовали какую-то одну книгу вашим студентам, что это было бы?
– Трудно сказать, одной книги никогда не бывает.
Если уж я исхожу из того, что норма чем-то заменится, конечно, заменится и литература, книга чем-то.
Книга – это прожектор. Ведь книга ничего не дает, там только буковки. То, что мы называем чтением, гораздо вернее назвать дешифровкой. Чтению надо учить. Долго, настырно. Родители учат, школа учит, и все равно люди говорят: «Ах, какая это трудная вещь. Я бы почитал с удовольствием, но устаю на работе, а еще тут».
Да потому, что и дешифровка, и чтение – это очень большой труд, связанный с запуском своего разумения, своего мозга, своей догадки, своей разгадки, своего жизненного опыта и многих других вещей.
Поставил я такой эксперимент у нас. «Ночное» – это тургеневское, из рассказов («Бежин луг»). Этот заблудившийся охотник ночью, Иван Сергеевич сам, прибился к костру, увидев костер, решил спросить, как дорога и так далее. Оказалось, что это ребятишки из ночного, крестьянские ребята.
Я задаю вопрос нашим студентам: какие звуки слышал Иван Сергеевич, прибившись к этому костру? Они пишут: журчала вода, потрескивали дрова в костре, раздался какой-то «у-у-у», после чего они начали об утопленнике беседовать, ржали лошади. Все, на этом мой эксперимент закончился.
Конечно, Тургенев, в отличие от наших девочек городских, знал, что лошади ночью спят, они храпят.
Для того чтобы ржала лошадь, она должна проснуться, а в ночном они спят. Поэтому, конечно, никакого ржания лошадей Иван Сергеевич в этом ночном не слышал, и в тексте, конечно, нет про ржание лошадей у него.
Яркий пример: мы вычитываем не то, что писал автор, а то, на что он нас сподвиг, на что он сподвиг наш опыт, наши жизненные знания, нашу догадку, нашу фантазию. Если у нас это отработано, если есть опыт жизненный, тогда чтение – это колоссальное удовольствие. Можно даже прикрыть книжку и дальше думать, самому развивать: а что там дальше, скажем, Болконский делал? Потому что тебя настроили уже на это, и ты уже будешь сам что-то сочинять.
Я думаю, что упростив терминологию, сделав для стилистики определенную логическую терминосистему, люди сами откажутся от этих споров относительно терминов. Надо сделать прозрачную терминосистему, где одно вытекает из другого.
Вот функциональная стилистика, объекты ее, стили, функциональные стили – деловой, научный, канцелярский и так далее. Язык художественной литературы. Разговорная речь. Помилуйте меня, разве можно речь, язык, стиль рядоположить? Нет, нельзя, неправильно!
– Дискурс?
– Дискурс. Язык интернета – набор разных языков: язык блогов одно, язык сайтов – другое, язык скайпа – третье. Нет, речь скайпа, конечно. Может существовать наука, у которой нет единого предмета изучения? Нет. И это только у нас, кстати.
Никакой речи у поляков нет, а то, что мы называем речью, они называют словом. В переводе Соссюра они просто растеряны, они не могут его перевести, потому что у них слово для langue, а для langage? Кстати, это Леонтьев придумал langage перевести как «речевая деятельность».
А язык – это не деятельность. Речь – это не деятельность.
Английская традиция: говорят usage, usus. Правильно. Но узусы – не хорошо. Usages можно, но можно, в конце концов, и употребление. Я думаю, что описывать стилистика должна различия разного употребления, или описывать разные употребления языка, разные usages, different usages.
Если так упростить терминологию, тогда начнется серьезная работа, а как различить разные употребления, как их описывать, эти разные употребления – вопрос выбора из одного языка. Нет, мы лучше возьмем разные языки. Давайте английский возьмем для науки.
Пока я каким-то образом отстоял свой журнал «Русская речь». Знаете, почему его закрывали? Потому что мы не давали на английском языке аннотаций к статьям. А этот журнал рассчитан на людей, хорошо знающих русский язык и занимающихся установлением каких-то особенностей русского языка. Спорных, может быть, да. Но зачем в нем должны быть аннотации на английском языке? Его читать не должны не знающие русский язык. На обложке написано: он для знающих русский язык, и не просто знающих, а имеющих свое представление о русском языке, спорящих о русском языке и так далее. Нет, закрывают!
В следующий раз мы опять вернемся к идее – давайте, во всяком случае, в школе физику, математику, химию изучать на английском языке, это прогрессивно. От этого Михайло Васильевич в своей могиле уже, наверное, по потолку ходит от возмущения.
Видео: Виктор Аромштам
[1] Срезневский И.И. – русский филолог, автор «Словаря древнерусского языка»
[2] What Ivan Knows that Johnny Doesn’t – сравнительное исследование советского и американского образования, выполненное Артуром Трейсом.